Как женщин исключали из науки
Долгое время медицина смотрела на мир через мужскую призму. Почти весь XX век клинические исследования строились вокруг мужского тела — женщин просто исключали из выборок под предлогом необходимости «избежать гормональных осложнений» и «вариативности менструального цикла». На деле это означало одно — данные о дозировках, побочных эффектах и реакции организма на лекарства формировались на основе мужской физиологии, и впоследствии автоматически переносились на женщин.
До 1990-х годов большинство медицинских испытаний, особенно фармацевтических, проводилось на молодых здоровых мужчинах. В науке прижилось понятие андроцентризм — идея, что мужское тело — это «норма», а женское — отклонение. Так в медицине сформировалась огромная «слепая зона», последствия которой чувствуются до сих пор.
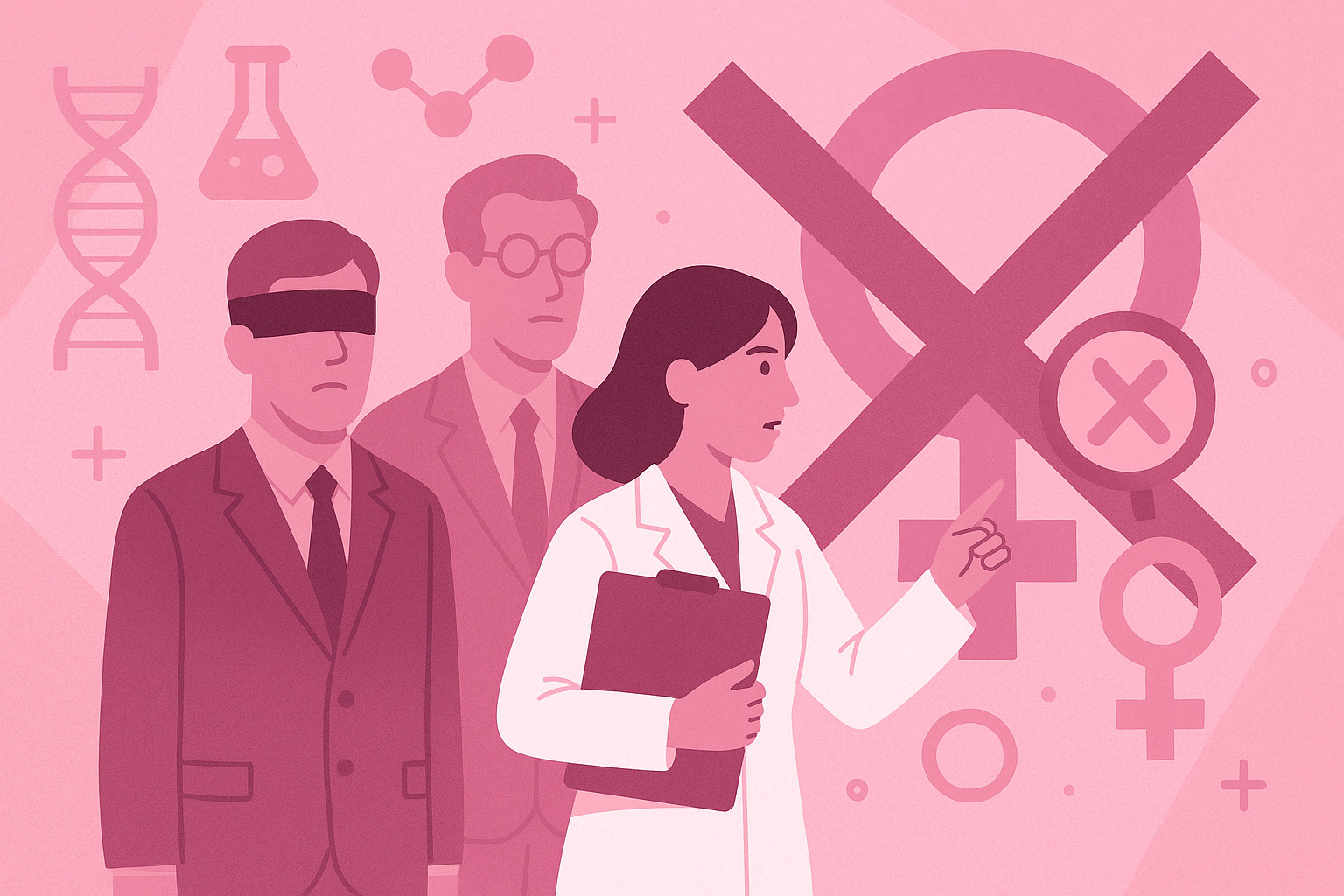
Переломный момент наступил в 1993 году, когда в США был принят Закон о возобновлении деятельности Национальных институтов здравоохранения (NIH Revitalization Act). Теперь исследования, финансируемые государством, обязаны были включать женщин и разные этнические группы. Это стало важным шагом, но не финалом: частные фармкомпании ещё долго продолжали тестировать препараты в основном на мужчинах.
Лишь в 2014 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) ввело требование собирать и публиковать гендерно-специфические данные о дозировке и побочных эффектах. Именно тогда стало известно, что женщинам требуется примерно в два раза меньшая доза популярного снотворного Ambien, чем мужчинам, из-за различий в метаболизме.
В Европе аналогичные рекомендации начали внедряться в конце 1990-х — начале 2000-х годов по инициативе Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально призвала учитывать пол и гендер в медицинских исследованиях лишь в 2010-х годах, отметив, что различия между мужчинами и женщинами в биологии и поведении напрямую влияют на эффективность и безопасность лечения. Сегодня очевидно: биологические и поведенческие различия между мужчинами и женщинами напрямую влияют на то, как работает лечение. Но путь к равной медицине всё ещё продолжается.
Гендерный разрыв в финансировании исследований
Даже после того, как женщин официально начали включать в клинические испытания, сама структура медицинской науки осталась далека от равновесия. Исследования, посвящённые женскому здоровью, до сих пор получают несоразмерно меньше финансирования, чем аналогичные по распространённости заболевания, преимущественно поражающие мужчин.

По данным Journal of Women’s Health, в США болезни, типичные для женщин, систематически недофинансируются: объём инвестиций в них почти вдвое меньше, чем следовало бы исходя из их вклада в общую заболеваемость. А вот «мужские» болезни, наоборот, получают в среднем на 50% больше средств, чем их фактической распространённость.
Так, в исследовании Национального института рака США сравнивали финансирование 18 видов онкологии. Рак предстательной железы уверенно занимает первое место по объёму инвестиций. А вот рак яичников, шейки матки и матки — только на 10-м, 12-м и 14-м местах.
Ещё один пример — эндометриоз. Это хроническое воспалительное заболевание, которым страдает примерно каждая десятая женщина репродуктивного возраста. Финансирование его исследований в США остаётся мизерным. В 2023 году, по данным Национального института здравоохранения США, расходы на исследования эндометриоза составили около 16 миллионов долларов. Для сравнения, на болезнь Крона — сопоставимой по распространённости — 90 миллионов долларов.
Подобная диспропорция наблюдается и в других областях женского здоровья. Менопауза, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), беременность — всё это часто списывают в разряд «узкоспециализированных» или «репродуктивных» направлений. Однако их совокупное социально-экономическое воздействие крайне велико.
Так, по данным исследований, опубликованных в Human Reproduction (2018) и Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (2024), экономическое бремя СПКЯ в Великобритании оценивается в диапазоне от 237 млн фунтов до более 1,2 млрд фунтов в год, включая прямые расходы на лечение бесплодия, диабета 2 типа и метаболических нарушений, а также косвенные потери, связанные со снижением трудоспособности. СПКЯ остаётся одним из наиболее распространённых, но слабо финансируемых и изученных состояний в сфере эндокринного здоровья женщин.
Учёные называют эту тенденцию проявлением «финансового и институционального сексизма в науке». Темы, касающиеся женского здоровья, по-прежнему рассматриваются как «нишевая» область, хотя фактически они затрагивают половину населения планеты. Как отмечает ВОЗ, «структурное недофинансирование исследований, касающихся женщин, усиливает неравенство в доступе к знаниям, диагностике и лечению».
Научный сексизм: последствия недостатка исследований
Исключение женщин из научных исследований не прошло бесследно — оно обернулось реальными последствиями в диагностике и лечении.
Возьмём эндометриоз. По данным многочисленных обзоров, в среднем проходит 6–7 лет с момента появления первых симптомов до постановки диагноза. В некоторых странах этот путь растягивается до 8–10 лет и дольше. Всё это время болезнь прогрессирует, вызывая хроническую боль, усталость, нарушения сна и пищеварения, значительно увеличивая потребность в инвазивных вмешательствах — и, как следствие, снижая качество жизни.

Почему это происходит?
Частично из-за сложности самой диагностики. Симптомы эндометриоза часто «маскируются» под другие болезни: от синдрома раздражённого кишечника до обычных менструальных болей.
Однако ключевой фактор — системное обесценивание женских жалоб и структурные пробелы в знаниях: врачи нередко списывают сильную боль на «норму» менструации или стресс, а клинические алгоритмы и образовательные программы недостаточно подготовлены к раннему распознаванию паттернов.
Иногда перекос виден даже в том, какие вопросы задаёт наука. Примечательно, что даже исследования, посвящённые исключительно женским заболеваниям, нередко фокусируются на их влиянии на мужчин или на восприятии женщин окружающими — что само по себе отражает гендерный перекос и элементы сексизма в научной повестке. Так, показательно звучат названия публикаций: «Качественное исследование влияния эндометриоза на мужчин-партнёров» и «Привлекательность женщин с ректовагинальным эндометриозом: исследование типа “случай–контроль”».
То есть даже когда речь идёт о болезни, напрямую касающейся женщин, внимание часто смещается — к восприятию мужчин.
@kms1496 Why is this what we are putting resources in to study? #womenshealth #endometriosis #endometriosisawareness #hypocrisy #chronicillness ♬ sonido original – ️
Ситуацию усугубляет недофинансирование исследований женского здоровья. Историческое доминирование «мужской модели» в науке тормозит развитие новых диагностик и терапий. Отсутствие качественных данных по половым и гендерным различиям невозможно корректно настраивать дозировки, адаптировать клинические рекомендации и создавать инструменты скрининга, которые действительно работают для женщин.
Признаки перемен: почему кампании по повышению осведомлённости так важны
После десятилетий, когда медицина фактически игнорировала женское тело, в наши дни формируется новая парадигма — «гендерно-ориентированная наука». Её принцип прост: различия между мужчинами и женщинами — не помеха, а необходимый параметр для точных и справедливых исследований.
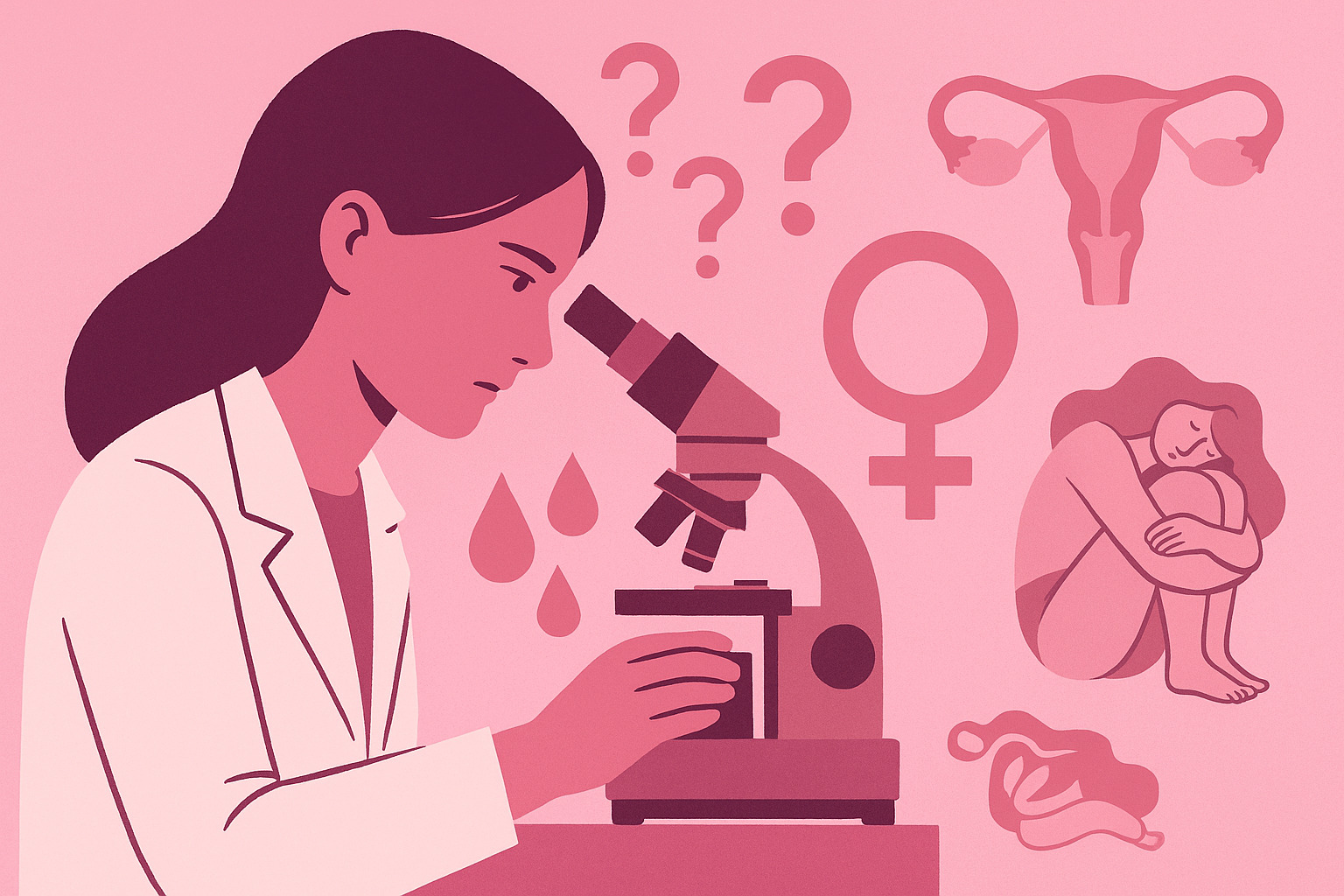
Рост числа грантов и институциональной поддержки
С 2016 года Национальные институты здравоохранения США (NIH) ввели обязательное требование учитывать пол как биологическую переменную при подаче на гранты (Sex as a Biological Variable).
Эта политика стала моделью для других научных организаций. Wellcome Trust, European Commission (Horizon Europe) и Canadian Institutes of Health Research теперь также требуют включать гендерный анализ в научные заявки.
Результат не заставил себя ждать. В нейронауке, например, доля исследований, где участвуют оба пола, выросла с 20% до 70% за одно десятилетие (2009–2019).
FemTech: технологии закрывают пробелы в данных
Пока академическая наука перестраивается, бизнес двигается быстрее. Термин FemTech (от female technology) появился в 2016 году, когда предпринимательница Ида Тин, соосновательница приложения Clue, предложила обозначить им технологии, создаваемые для изучения, поддержки и улучшения женского здоровья.
Сегодня это целая индустрия цифровых решений для женского здоровья: от трекеров менструации (Flo, Natural Cycles, Eve) до платформ, анализирующих гормональные данные и предсказывающих ранние стадии заболеваний. FemTech помогает собирать миллионы обезличенных datapoints — данных о менструациях, фертильности, менопаузе — которые раньше просто не существовали в медицинской статистике.

Мировой рынок femtech уже превысил 50 млрд долларов и растёт на 15% в год, причём многие проекты сотрудничают с университетами и лабораториями для анализа обезличенных медицинских данных.
Активизм и публичные фигуры
Одно из самых заметных изменений последних лет — возвращение женского здоровья в публичное пространство. Опра Уинфри, Наоми Уоттс, Гвинет Пэлтроу открыто делятся опытом менопаузы и репродуктивных проблем, разрушая стереотипы и стигму.
Тем временем в TikTok и Instagram миллионы женщин рассказывают свои истории — про ПМС, СПКЯ, эндометриоз — формируя сообщество и настоящее движение за внимание к женскому здоровью. Именно этот новый публичный разговор стал тем, чего науке не хватало десятилетиями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кампания против рака груди: пример системного успеха
Так называемое движение Pink Ribbon стало ярким примером того, как общественное внимание может буквально изменить медицину. Благодаря объединению усилий научных фондов, СМИ и корпораций уровень выживаемости при раке груди вырос более чем на 40% с 1980-х годов.
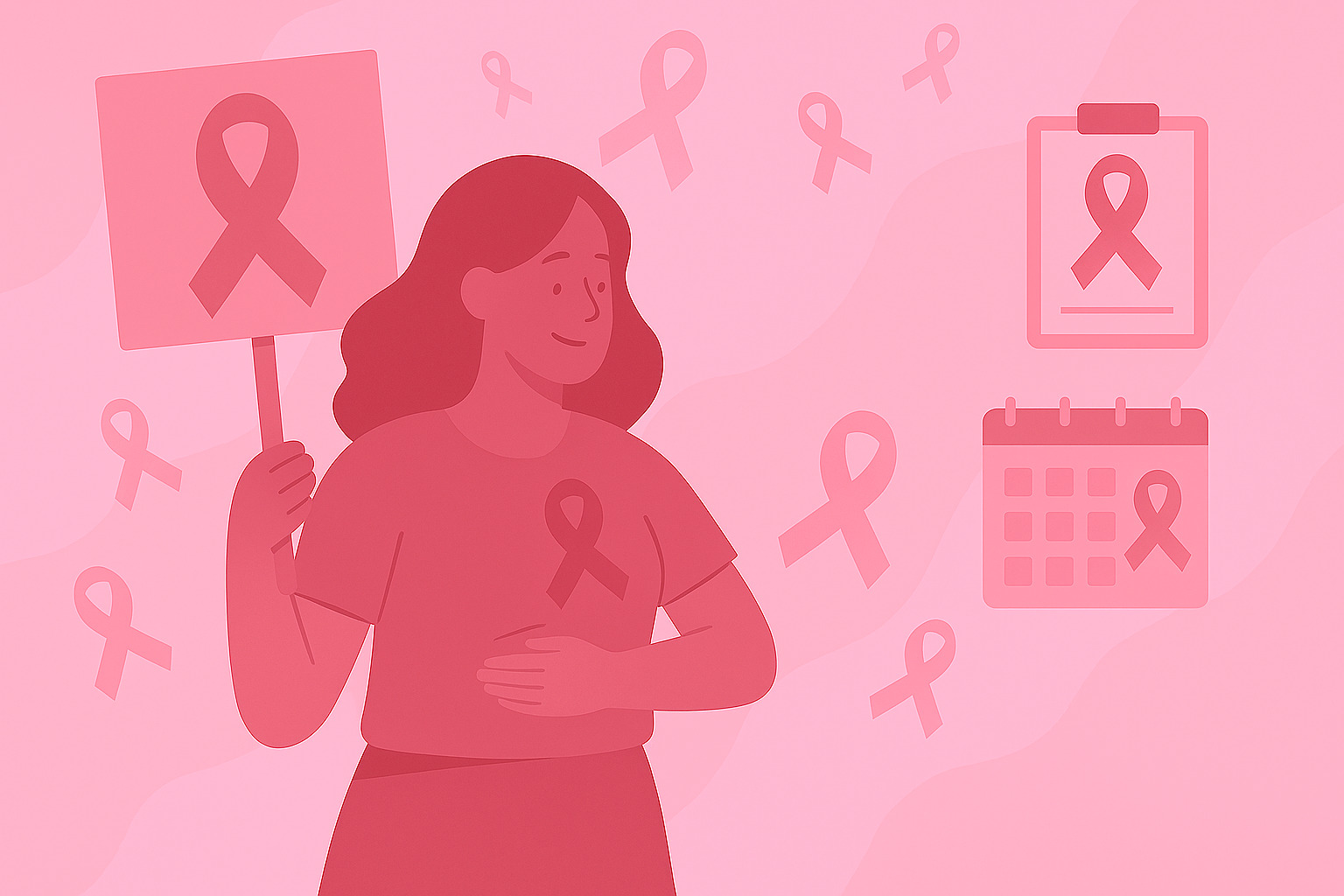
Эта модель — сочетание информирования, благотворительных кампаний и лоббирования исследований — доказала: социальное давление способно менять приоритеты науки. Сегодня эксперты предлагают распространить эту «модель осведомлённости» и на другие, менее изученные области женского здоровья:
Март — месяц осведомлённости об эндометриозе,
Сентябрь — синдром поликистозных яичников (СПКЯ),
Октябрь — месяц менопаузы и репродуктивного здоровья.
Рост числа активистских движений, появление новых грантов, развитие FemTech и внимание со стороны медиа создают настоящий момент перемен для медицинской науки. Кампании по осведомлённости — не просто культурные акции, а катализаторы системных изменений, которые делают видимыми болезни, долгое время остававшиеся «невидимыми» для науки.
Формируется новый подход в науке: его цель — не подгонять женское тело под «мужскую норму», а учитывать различия и строить медицину, точнее отражающую особенности каждого организма.




